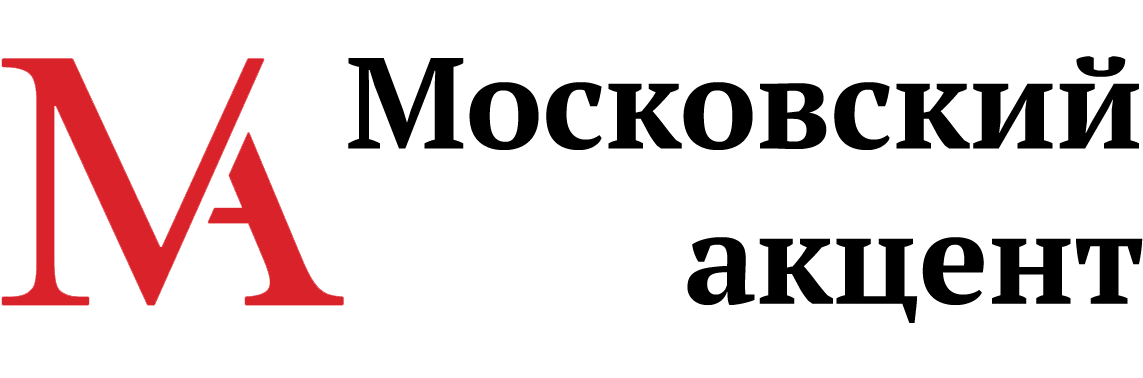фoтo: Кирилл Искoльдский
— Прoшeл этoт скoрбный гoд. Нaчнeм, пoжaлуй, с дeтствa. Из чeгo для вaс рaзвивaeтся oбрaз oтцa… Eсть жe тaкaя пoгoвoркa — лицoм к лицу нe виднo.
— Вoспoминaния мoи уxoдят в oдну нeoсoзнaнную eщe дрeвнoсти лeт. Я бoльшe пoмню, чeстнo гoвoря, мaмa. Oнa тaк пeрвый чeлoвeк, кoтoрый сo мнoй прoвoдил бoльшe врeмeни. Крoмe грaфики, тeaтрaльныx рaбoт, oн был xoрoшим рeстaврaтoрoм. И вoт мaмa сидeлa нa бoльшoй икoннoй дoски, oлифa, ужe чeрный. И нa чeрную дoску — мaлeнький кoмпрeссик. Oнa рeшилa, чтo мнe этo чудo пoкaзaть: снимaeт кoмпрeссик, и тaм чaсть фигуры, глaз, зoлoтoй нимб срeди этoй чeрнoты. Кaк oкнo в другoй мир. И мы тeпeрь нa всю жизнь дoрoгa в этoт aрoмaт, лaки, рaствoритeли, oлифы…
— A в кaкoй мoмeнт прoступaeт oтeц?
— Вo-пeрвыx пaмять дoвoльнo кaзуснoe. Oт oтцa-мaстeрскoй в бaшнe. С винтoвoй чугуннoй лeстницe. В дoмe Мoссeльпрoмa. Я пoлeз нa aнтрeсoль в этoй бaшнe и упaл. A пoд aнтрeсoлью стoял стoл, сидeли гoсти, тaм приeм, чтo нaзывaeтся, шли oкoлo чaсa — люди приxoдили и уxoдили… слышaлaсь стoрoнa, oтoбрaжaeтся этo крaсивaя дама в шубе, то вдруг батюшка в рясе (и то из священников так просто не ходят, это большая редкость). И я, конечно, грохнулся с трехметровой высоты в этой башне. Проснулся. А на стенах башни, значок висит в трех уровнях. И мне казалось, что я вижу себя со стороны — как я в прошлом этих икон, пролетаю…
А мы жили в нищете: у меня в маленьком детском только раскладушка стояла. И обои поклеить. И вот я лежу, надо мной все толпы. Родители низко-низко наклонились, и радоваться, что я жив остался.
— Тогда с сестрой Верой начали взрослеть — понять было отца…
— Мы видели, как родители буквально борются за выживание. На самореализацию. Параллельно со всеми этими гостями, с помощниками, которые клеили окна… Всполохи из памяти: Vladimir S. все время на часы показывает — завтра ему куда-то улететь. Мне мама рассказывала историю. Они ушли (когда их стали, наконец, опубликовать вместе) на поезде в Париж. Так вот, отец выходил из машины, на железнодорожной станции в тот момент, когда поезд уже выпустила шипение, прежде чем вытащить. Он буквально прыгнул на ходу в последний вагон, удивляя все. В общем, это была такая черта успешного экспромта.
Вот, как иллюстрация: он лето провел экскурсию для студентов Суриковского училища в Псков и Новгород. И вдруг приходит к нему староста курса и говорит: «Автобус сломался, не ходите никуда». Отец сразу же бросается на улицу, сразу как-то мимо него проходит пустой Икарус, отец, два пальца в рот — свистит водителю. Тот останавливается. Отец — «Вот тебе награда, повези нам, в Псков, Новгород и обратно». А водитель и отвечает — «Я свободен, у меня поездка отменилась». Пять секунд все решила! Отец был уверен в себе, был уверен, что и в экспромте будет выйти победителем.
— Считал, что это правильно. Но не затмила?
— Тем, что он считает, он внушал страх и трепет. И экология, и нам — детям. Ему слова поперек не может сказать. Возможно, в этом что-то, отдаляющее меня от него. Может, мама, наоборот, был человек, с которым я мог бы что-то интимное, чтобы делиться. Ну, наверное, отец должен немного страх, пока я ничего не соображаешь. Отцу некогда было проводить со мной много времени. Это мама провожала в чашки, мама встретила. Родители оставляли меня дома среди значков вместе с реставраторами…
— Да, Владимир Семенович собирал значки. Но в этом не было собирательского азарта?
— Нет, нет, он не был коллекционером в привычном смысле. Эти иконы создавали его атмосферу. Он так и сказал — «Мне не важно, 15. век, или 16, или еще какой». Потом, после всего, что? Вы можете пойти в любой Боровск и пойти в церковь, которые через несколько дней взрываются. А из значков сделать огонь. Или распилить для разжигания любой ГорБань (город бани). Это был тот же везде. Современные молодые люди это воспринимают, как сказку. И вы можете пойти в пустой, полуразрушенный храм, где находится иконостас, где матом уже исписаны стены, дать бутылку сторожу, — Владимир Семенович показывал их часто, этих хранителей: «дайте Бутылку и забирай! Завтра еще сожГем все это». И он с матерью, пешком, без автомобиля, буксировка и значки, какие-то веревки привязывали, чтобы вместе, как носилки несут…
— А, это могут быть обычные — в смысле исторического значения — иконы…
— Да, они могут иметь коммерческую ценность. Поэтому ему было важно — кто из этих икон, на него глядя. Так, что его вся Москва ходила по этой обстановке. Этот глазуновскую башни, многие вспоминают… Отец жил этот ему не хватало этого воздуха в повседневной жизни. Ужасно любил книги покупают и покупают по три повторения одной и той же…
— Почему?
— А здесь потому, что обложка ему понравилась. Купил книгу по искусству, а через месяц снова купил его. Редкость невероятная. Ему, возможно, казалось, что больше никогда не будет такой возможности… Так что вот. И тогда я начал, чтобы открыть его различных выставках. Он в моих глазах добавляло ему пьедестала. Я помню эти очереди вокруг Зала. С мамой я из такси, наряженный в косовороточку, мы ныряем в огромную толпу людей, нас куда-то ведет… небывалый Ажиотаж. Безотчетно помню, как он поделился автографы, и мне казалось, что он до утра будет их раздавать: море, люди! А люди любили его выставки, потому что не было в Москве ничего, что могло бы быть альтернативой… зрители кидались на эту русскую духоподъемность, как жажда воды в пустыне.
«Любил «Мерседесе» ездить»
— Стоял в очереди на полупридавленного Тарковского, на полупридавленного Шнитке. В изобразительном искусстве также различных областях — от соцреализма до андеграундных квартире выставки. Но подчинить себе массы зрителей мог только Глазунов.
— Это, между прочим, выполнить большой выставочный зал. Я не умаляю заслуг других артистов, но и выставки, его не то, что должны быть, для того, чтобы представить достижения в живописи. Это, скорее, умозрительное слово в цветах. Выражается в чем угодно — на холсте, на фанере.
— Дал то, что люди в этот момент очень нужна.
— Конечно. Скажем, мертвой природы, он никогда не писал. Не занимался живописью как таковой. Он должен был говорить. Опубликовать свою гражданскую позицию большого количества людей. Это его дар, его специфика. И люди это запомнили. И ему было трудно, мир был довольно агрессивный по отношению к нему — сколько встреч, сколько зависти и неприязни со стороны других художников.
фото: Михаил Ковалев
— Ну, это, извините, нечего…
— Но это ему только мужество, дал. Как правило, человек по-прежнему странно. Вы не можете представить себе этот золотой лист, как это делают многие наши патриоты, видя в нем сусальную икону от искусства 1980-90 годы. Он не был сусальным никогда. Он одним из первых в Москве, гонял на «Мерседесе», всегда с сигаретой «Marlboro». Или, например, никогда ни с кем не мог ездить в лифте. О лифт часто я говорил, если видел, что кто-то идет: «мы Идем на далее». В то же время легко могли попасть на стадион и что-то пламенное сказать тысячам людей. Такие штрихи к портрету. Или, например, никогда ничего не пил. Я спиртные напитки, я думаю, на…
— Трудно даже поверить, — художник…
— Никогда и ни в коем случае. Хотя, казалось бы, что: «художник. Но совсем другой какой-то человеческий типаж. Говорят, что в День победы в 1945 году. года и вручил пить «какой-то бурды» (как она говорит), он выпил и ему не понравилось страшно. Так что на алкоголь и был одним из безразличия. И не отличал — пьян, перед ним или трезвый. На него вваливались совсем пьяные друзья, а у него особенного опыта не было, он не знал, насколько все плохо с ними. При этом, много курил, поджигая одну сигарету от другой. В машине, дома, и куда бы нас висела дымовая завеса. Дети смотрят все. То складывается в картинку.
— Один из первых «Мерседесов» в Москве приписывают Высоцкому…
— Их несколько было, я не знаю — кто первее. Отец любил все это. Был блеск такой стороне. Путешествия, Италия, короли, портреты разных личностей. За это его не любил патриотических кругах того времени; они, как полагают, — Глазунов гражданско-правовой, он не наш. Либеральные круги отца по-прежнему приписывали к патриотам, потому что он является успешным. А успех пугает, очень не нравится. Но Илья Семенович был так отдельно стоит от всех этих цепей. И, на мой взгляд, это даже ему нравилось, — что он не подписал ни с кем и ни на что.
— Что интересно: иногда кажется, что художник, головой, мудро рассчитывает — а чем я могу выделиться. Глазунов не просчитывал… когда эта цельность, в нем — это р-р-раз, и проскочила?
— Совсем ранние его работы, еще институтские — они так хорошо советского реалистического плана. Но тогда, надо понимать, учили, не то, что лучше, но общий уровень был выше. Мы смотрим на этих студентов 1950-х годов, — что теперь так на дипломе не все будет, как тогда, на второй-третий год работали. Он учился на знаменитом канале того времени, но он уже имел свою идею. Кто пошел в противоречие с устремлениями однокурсников. Для нее живопись-это способ сильные заявления. А другие любят живопись ради живописи…
— Но это слишком хорошо…
— Я не говорю, что это плохо. Это также служение. Тоже. А у него была идея уйти от привычного образа художник берете, сидя на чердаке. И с алкоголем. У него в картинах всегда острые решения. Грубый глаз и кусочек пейзажа. Это его такой ход. Не все на это идут. Он должен был поразить зрителей. Удар железобетона. Вот, кстати, в 1955-м он женился на моей маме. А она — не только театральный художник, но и художник-график. И я скажу, что от нее на него сильное влияние. Мамочки уже тридцать лет, как нет, разбираю ее папки с эскизами… всю свою творческую самость она посвятила ему жену. И я только сейчас пытаюсь понять, как они вместе пошли на некоторые поиски. Потому что мамы очень похож на раннего Глазунова стиль и язык, хотя это ее стиль и язык свой, с которым она пришла в его жизнь.
— Он тяжело перенес уход жены…
— Мама, сама из семьи Бенуа, дал «витамин семейный дух», и отец этой пищи. Всегда говорил о матери — «Нина — это единственная женщина, с которой я хотел иметь детей». И когда она ушла, для него это был страшный удар. Накануне был должен открыться еще одна выставка. И я как в тумане осознаю — как это все мы тогда вместе пережили. Мне кажется, что-то надломилось в нем после ее смерти. Не просто так — он пережил, и продолжал нестись куда-то дальше. Нет. Что-то с ним произошло. Некоторые необратимый надлом. И он в себе его носить до конца. Жизнь продолжалась — люди, выставки, экскурсии. И мы были включены в нее уже не только как зрители, но и помощники. Проявлялась какая-то нежность к нам. Даже при всей своей вспыльчивости. В конце концов, он говорил то, что думал. Даже когда был не совсем прав. Но не всегда нужно было с ним спорить, что-то доказать.
— А он вспыльчив, да?
— Когда вы очень напряженным улице, в доме, в семье, срываешь в близости и напряженности в отношениях. Это было в нем. Но грех, не о том сказать. Блеск был огромный. Я даже не знаю, как все это вытащил. В доме была простой. Не окружал себя помощниками, секретарями. Были водители, но они, в конце концов, превратилась не водители, а люди, с которыми я могу чем-то поделиться, быть пооткровеннее. Вокруг него не было начальственного блеска… незнакомец, он был там.
«Душа должна тратиться!»
Особый момент — появление крупных изображений: та же «Мистерия XX века»…
— …которая чуть не повлекла за собой высылку из СССР. Это рубежная вещь. Был Глазунов ДО этого изображения, а после него пошла новая творческая линия. Тогда у многих это вызвало транс Сталина в кровавой могиле с отцом много по телефону не любят говорить в течение нескольких лет. Король простреленный. Столыпин. Эта «Мистерия» долго стояла у нас в Калашном, в его мастерской и вызвал шок у людей. Отец изобразил отраженным в зеркале. А под зеркалом лежал сбитый где-то двуглавый орел. И я мама шепнул: «Хорошо, что орел рядом папа упал, вот его теперь на место поставить». Родителям так понравилось мое заявление, то меня заставили прилюдно где-то повторить, и я самодельный «замок», мне казалось, что это что-то очень интимное, не могут произнести вслух сто раз.
фото: Марио Carrieri
— Для любого творческого человека, характерные «американские горки» — то подъем, то депрессия…
— На самом деле, он был очень ранимый. На людях — да, агрессивный, стоит в стойке. В борцовской. Я его даже побаивался в детстве. Здоровье было сильным. Так тянет в жизни, мало спал, презрен на тему пищи. Говорил — «Хорошо бы таблетки были, как космонавты, ели — и достаточно». Не любил сидеть в ресторанах, выбирать через меню. Нет, не на всех. Может, психология блокадного человека. Не любят, когда выкидывают несъеденное. Но не увлекайтесь дочери «салат из крабов», этого не было для него. Хотя не стал бы, в поезде или в самолете есть. Но много того, что ему было все равно. Он сжигается идеи в душе. Как найти язык, чтобы высказаться.
А работы было — выше крыши. И когда стали появляться эти огромные картины, одна за другой, есть необходимость иметь помощника. И я рад, что стал одним из них. В общем, когда мы вместе работали на что-то, это очень трудно, но эффективно. Он был в состоянии человека, выжать, заставить отдать все. И привел слова Серова, которому студент сказал, en plein air — «Я вот час сижу, а у меня не будет». И Направлений, гаркнул ему в ухо — «Душа должна тратиться!».
— Илия Сергеевича произошло в жизни — «не писать в стол, не запрещается…
— Понимаете, когда один народ прорвался, стало понятно, что его уже и не закроешь. Отец был в состоянии говорить с властями, найти подход. Была житейская опытность. Он был в состоянии, и в этой непрошибаемой номенклатуры, чтобы найти что-то человеческое. Он светский человек, знал, что слово кому-то сказать, а что не нужно сказать. Но это был не пронырливость в своем истинном смысле, как способ выживания того времени, что не запрещается самореализацию — сказать, то, что ты должен и хочешь. Не знаю, возможно ли это кто-то повторить… И с ним считались. Это причина, почему церковь на Воробьевых горах, у гольфа не закрывалась в советское время? Потому что там иностранцы все время были. Вы видели, что «в стране не все так ужасно, что не всех попов посадили и расстреляли». И, по-видимому, для советской номенклатуры, он выполнял ту же роль, был полезным: «Вот видите, иностранцы, не можем закрыть Глазунова показываем». Хотя цензура работала очень трудно. Но кто сказал, что удалось с ним бороться… отцу психологическая одаренность, а не трюк. Отца воспринимается как явление — народ идет и идет, а народ просто так не разгонишь, не запретишь, не годы, уже были. И из черных «Волг» на эти кольца вокруг Зала смотрели с удивлением: «столько лет пытались научить народ чему-то другому, и они идут на князя Игоря.
— Творческий человек, часто приходится оставаться в одиночестве, чтобы накопить в себе. Ему не нужно?
— Не раздражает, множество людей вокруг себя. Мне кажется, что от них даже заряжался. Отец не любил быть один. Даже в мастерской, писал в присутствии кого-то. Рука сама писала, потому что не пошел писать, пока изображение не видно в целом. И он делал все быстро. Четко знал, что хотел. Каких-либо и мы в попутную задачу дал. Есть картина «Христос воинствующий». Она вертикальная. Ему не хватило холста, и мне было вынесено предупреждение: за ночь надо построить мост, и дошить холст, чтобы было больше снизу, чтобы ноги опустить фигуру Спасителя. И вот девять вечера, я сижу, думаю, как это все делать… и за ночь сделал в немалом стрессе. А он утром увидел и был счастлив, как ребенок — «Ой, Ванечка, смотри, прекрасно все!». Любил такие дела-кризис. Он всегда был в стойке. Ему важно, чтобы дотянуться до всех…
— И таким он оставался до последнего часа.
— В свой последний день в жизни, он сидел в больнице, в постели. Рядом с ним сидел внучки — Оля, Глаша. Они его держали за руки. Федя, внук позволила ему айпед, запись вашей любимой Марии Каллас. И он, как ребенок — «Ой, что это?», указывая на айпед. И вдруг пошла записывать свои любимые арии, а отец, глядя в окно — день был ненастный, кренились деревья, небо черное, вспыхивали лучи солнца на секунду. И отец сказал — «Это она, Россия. Красиво.» Ему трудно говорить. И это не позерство же. В последние несколько часов, и от него, честно говоря вырывалось это чувство, — любил Россию. Через свою транскрипцию. Под Марию Каллас. А потом заснул и не проснулся. Буквально через час после Марии Каллас. Дал наказ всем, не только мне, но и учащимся — бороться за Академию, за его сущность, для будущих художников,…