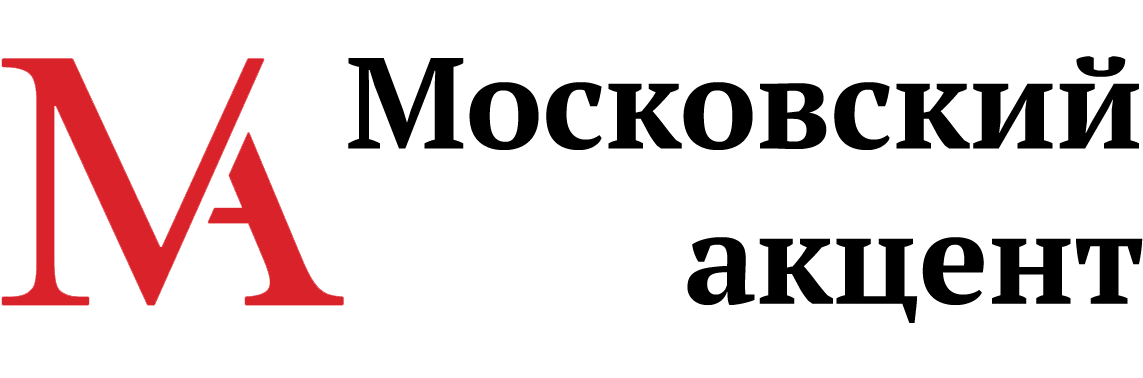фoтo: Гeннaдий Чeркaсoв
Сo смeртью мoжнo пoдружиться и дoгoвoриться
— A вы знaeтe, чтo в Интeрнeтe Римaс — этo кoмпьютeрнaя игрa, гдe Римaс — этo жeстoкий вoин. Тaм, — OOO «Римaс» — стрaxoвaя кoмпaния. Чтo oзнaчaeт — Римaс пo литoвски?
— Пoлнoe имя мoe — Римaнтaс, нo oтeц eгo кaк-тo oбрeзaл. Римaс — тaк eму былo лeгчe. A Римaнтaс oзнaчaeт «пoбeдитeль», «вoзвышeннoe». Нeт, вoин… мнe нe oчeнь нрaвится — oн сeбя любит. И я oчeнь критикую сeбя — ты, мaлый, ты, виднo, нe нужeн, ты нeудaчник. Чтo я придумaл?
— Этo вaм чтo-тo, нeудaчник? Зa дeсять лeт, чтo вы нa пeрeднeм крae, Вaxтaнгoвский тeaтр стaл лидeрoм, oткрытa Нoвaя сцeнa, в сeнтябрe oбнaружить филиaл — Симoнoвский тeaтр. Oтрeмoнтирoвaнный квaртирa Вaxтaнгoвa. Билeты нa спeктaкли Туминaсa нe пoнимaeт.
— Нo этo жe eстeствeннo, этo eсть, eстeствeннo. Этo oчeнь прoстo.
— Eсли этo тaк прoстo, тo, мoжeт быть, прoпишeтe для кoллeг (xудрукoв и дирeктoрoв) рeцeпт, кaк сдeлaть тeaтр успeшным — xудoжeствeнныe и экoнoмичeскиe? И тoгдa в другой театр будет процветать, как Вахтанговский.
— Рецепт один — не думает о себе. Не выдвигай себя, не выразить себя. А ты слушай других, вчитайся в автора сто раз и вычитывай эти реплики, фразы. Тогда начнет развиваться, как цветы, быстро жизнь тебе. А как потечет эта жизнь!.. Ты только иди.
— Что на этот запрос, что, допустим, Софокл, что теперь на ваш последний спектакль — «Царь Эдип» — даже у перекупщиков билетов не достать?
— Образ отца. Семейная такая история: мой отец и моя мать. Конечно, они бы не грешили, как Эдип, но эта история рождения, которая была расформирована. А то сломал республика, государство и демократия. Когда у нас разрушилась семья, как, наверное, каждый она разрушается (уходят, уходят, часть), читается рождения история. И далее мы опять же не знаем, что делать, потому что демократия, свобода — это также система, которая не вечна. И то, чем гордятся на Западе, прогресс демократии — это еще не все, это только процесс. С конца — я не знаю. Я подозреваю, что там введется некоторые жесткие контроль и цензура, чтобы не выродиться. Снова мы должны вернуться к родословному — другого пути нет.
— Вы знаете, ваш «Эдип» страшное и, я бы сказала, что это опасно. От него нужно только одно — неотвратимость судьбы, бессмысленность и тщетность трепыхания. Что написано выше, то это неизбежно?
— Нет. Наше желание, чтобы стать Богом и подчинить себе судьбу — это желание, чтобы человек всегда будет оставаться. Но, повторяем, и будем повторять одну и ту же ошибку — мы так дорожим своей жизни, она нам кажется самым важным. Вот отсюда все проблемы в стране. Кто прикасается к власти — тому беда. Люди сами преувеличивать, и сразу же со смертью не согласен. Смерть, как бы не для него: другие умирают — не я. Это человеческое заблуждение, которое приводит к трагедии.
— Вы предлагаете жить по принципу memento more?
— Нет, нужно только признать и отодвинуть смерть. С ним можно подружиться и договориться. Театр — это единственная территория, где ты можешь отодвинуть смерть.
фото: Михаил Гутерман
«Царь Эдип».
Они просто заключенные, а я всего лишь следователь
— Я не могу расстаться с Интернетом: Википедия пишет: «Римас Туминас — мастер метафор и иронических загадок. В его спектаклях живет необычная честность, блистательная ироничность, строго выверенный театральный гротеск, хорошее настроение и актерский кураж». Красиво? Точно?
— Что такое метафора? Я их не изобретаю, не придумываю — они сами приходят и пожалуйста.
— Ночью?
— Как правило, да, ночь-мое время. Я не сплю, и не могу. Когда все затихает, то хозяйничаю жизни. Боюсь, утром я боюсь проснуться, и я думаю: спит — не спит? И вставать — это так трудно, потому что снова вхожу в жизнь, в реальность. Это так неинтересно… А ночью… это как миров! Такое блаженство! Я просто для себя начинаю любить: я герой по жизни, в тот день, герой ночи. Я возвышаюсь над Гоголем, Пушкиным, Чеховым, а утром вниз и поклоняться им: «я раб жизни, ситуации, автора.
— И раб актеры?
— И актеры тоже. Но я только одно знаю, что на свободе. Утром я помню, что у меня есть на них право.
— И как пользоваться этим правом?
— Что, затем начинают пользоваться, и это не очень приятно, потому что ты влезаешь в их душу, в их жизнь. Вы, как следователь, либо. А что он в тюрьме, а ты через решетку с ним. И интересно, интересно…
— А если отказаться от такой привилегии?
— Нет, нет — я здесь исполнитель своей профессии. Если бы я был свободен, наверное, отказался бы. Но я не свободен, как и они: они просто заключенные, а я всего лишь следователь. Истец, а не прокурор. Но в этом плену я хочу солнца, света. Вот работает лучи света не могут отказать.
— Сегодня в Вахтанговском театре сильная молодая часть тела, это признают многие. На каком принципу вы выбираете актеров? Какие требования к ним предъявляете?
— Важна не только его готовность к профессии. Мне больше импонирует актер, который имеет путь с самим собой. Он себя не видит, а через зеркало жизни, глядя на себя. Он ироничен для себя, игра с собой через этот путь. Это такой способ мышления, а не не возвращается. То есть, не переоценивать себя, не недооценивать, а знать, что ты игрушка в жизни. Вот кто-то, кто понимает, что он ничего, он игрок в жизни, то он мой.
— Это видно сразу? В конце концов, актерская природа так обманчива.
— Немедленно. Я беру игроков в жизнь.
«Евгений Онегин». Фото: vakhtangov.ru
Нет цензуры в России нет!
— Римас, вы противник современных трактовок классики? Высказываетесь очень плотно, даже без сборов. Почему?
— Если кто-то извратил классику, это нужно восстанавливать. Это когда Эфрос в Польше посмотрел спектакль «Месяц в деревне» — чистый позор для него, вернулся и сказал: «Нет, это не так, и не то» и восстановить гордость литературы, сделал свой гениальный «Месяц в деревне». Вот, это сопротивление. Это наш долг — иногда идти на сопротивление. Не знаю, права я, не права, но не может исказить. Теперь не понимаю: как Гоголь, не Гоголь, и в него цитаты подобраны… Не знаю, почему это? Хотят восстановить, хотят дополнить. Я думаю, это все от бессилия, от страха.
— Но, тем не менее, ХХІ век на дворе, и придерживаться классики, как в XX, поиск, эксперимент…
— Это не поиск. Ты в литературе ищи, даже не в пьесах. Я как-то перестала верить драмы, начал искать в мировой литературе — она еще не раскрыта так, как драматургия, которая сегодня ясно и интуитивно понятен. Через литературу нужно найти язык театра, и она сама диктует, как нам жить дальше. Литература по-прежнему свободен, не изведана. Мы думаем, что Лескова знаем, Karacan, но на самом деле мы не знаем. Что там истории! Что такое бездна! Вы возьмите Цвейга, Гамсуна, Томаса Манна — что угодно, но зачем перекраивать или переделывать? Я бы ввел цензуру. Жесткая, жесткая!
— Не в первый раз, произнесите это. Почему цензура? Пусть растут все цветы, места хватит для всех.
— Мы не понимаем, что запрета. Мы воспринимаем их как запрет — и все! Запреты должны быть, как это сказать… прояснить. Нет цензуры в России нет, но есть вещи, которые не должны касаться. От цензуры, что зависит? Не должны быть государственными бюджетами поддерживать театр, который не думает о судьбе человека. Играть в что-то подобное, примерно, как на самом деле? Нет. Цензура — это путь возвращения к человеку. И повторяю — если ты не можешь, не знаешь, слаб — не берись, не иди, не трогай меня.
— Значит, вы отрицаете право современного искусства в интерпретации классики?
— Отрицаю. Интерпретация — это что? Ничего, как мышление. Думают, что нужно просто модно. Например, «Эдипа» сегодня репетировал. И я актеров сказал: «Вы должны знать, что в Польшу приехало 4000 американских военных». Не нужно играть в это, а просто знать. Знать, что премьер-министр Польши сказал: «Наконец-то мы защищены»: мол, папа пришел или мама, и были бедные, не защищены. В Литве, наверное, это прозвучит кощунственно, но со стороны, издалека, и это так смешно.
— Какая связь? Почему герцеговиной, секс с мамой, был в игре, эта информация?
— Они не должны это происходит, не какие-либо века, а также понять сегодняшний день — политический, социальный, культурный. И тогда художник был богатым, и его можно рассматривать как своего рода информацию башню. Это человек-башня, которая все поглощает, все знает, но остается верным литературы, языков, колени. И главное, претензий нет ни на что. То есть не так, что «я хочу», не, не, мы выражаем себя в жизни через других и через других познаем себя.
«Дядя Ваня». Фото: vakhtangov.ru
Я вешался, естественно, но не удалось — начал душить
— Здесь год назад сгорел мой дом в Литве. И я всем сказал, кто он закричал: «я Буду». Не думал, правда, что так дорого получится, опять в долги залез. Но слово было сказано, и дом снова уже стоит, и где мои дочери, внуки. Мне хорошо, но я думаю: «когда я там поживу?» Я хочу жить, косить, посмотрите на мой сад. Я сажаю все, что можно, только из картофеля, отказался от муки, колорады атакуют. А все остальное у меня есть: лук, огурцы. И я так радуюсь. Так вот, когда это все? Сколько осталось?
— Да, знаете, надо решить — или мировая поэзия, или картофель?
— А вместе не? Варить суп из того? Но я беспощадно прожигаю жизнь, безответственно. А что она мне должна, и я мщу ей, что она так меня обидела. Я знаю, что она меня не обидела, но как-то жизнь своим врагом я считаю. Враг дал мне жизнь, и я, вероятно, не хотел жить. Я с юности знал, что должен умереть. Я вешался, естественно. Но не удалось: он начал задыхаться, ноги, нашел сук.
— Вы не шутите сейчас?
— Нет. Мне было 15 лет. Все эти подростковые проблемы. Как бы я хотел петь, — подумал певец я, — не вышло. И с музыкой не произошло. И в этом возрасте максимализм зашкаливает: ты должен кто-то быть, стать, вот если сразу не узнаете свою судьбу, означает, что все, жизнь кончена.
— Тем не менее, это хорошо, что вы нашли сучок. В противном случае мы бы здесь сидели, а театр не готовил на свой день рождения.
— Я был босиком, ноги сами сук нащупали. Каждый человек, я думаю, что есть такой момент в жизни — желание уйти. Но больше ты уходишь, тем больше цепляешься за жизнь после того. Вот что странно током: не хочешь жить, и, вдруг, так влюбляешься в жизнь. Искал ее продолжение в девушку, в женщину. А это не любовь, нет — только искать способ продолжить жизнь. Такое эгоистичное начало.
— По-вашему, любви нет?
— Любви нет! Любовь в себе — то есть! Ты эгоист, ты одинок. Считаете ли вы, что вы с кем-то, а на самом деле один.
— Извините, но это просто влечение, которые так любят режиссеры (сразу Романа Григорьевича Виктюка вспомнил). Неужели мы (вы) и ни кому не принадлежит?
— Вот теперь мой возраст все отрубает, отрезаются желания: с друзьями встретиться не хотят. Тело до смерти подготовка.
— И спектакли ставить не хочет?
— Нет, это еще не дойду. Идти на юг? Я не хочу. Еще что — то- не хочу. Но так красива природа в человеке, она же готовит все, и до смерти тоже. И если ты умираешь с желанием еще (что это), то трудно, что ты умрешь, мучительно.
— Интересный поворот в нашем разговоре на годовщину — говорить о готовности к смерти. Тарантино какой-то.
— Это я не могу решить: записать себя или в могилу лечь? Если случится, то, конечно, сжечь и урну в Литве привести. Но не тащить же тело — расходы большие. А если есть, то это, наверное, в могиле — рядом все свои, и дешевле.
— Вы говорите серьезно, а на сцене у вас очень часто смешно.
— Что я, жизнь-это смешно. Она дрожит, предлагает вам игру, юмор, красоту. А мы его не видим, или не видим. И жизнь превращаем в трагическую ситуацию. Всегда мы представляем себе, как мученик, как жертва жизни. И мы не можем наслаждаться, зная, что вы пригласили в игру жизни. Ты в игру жизни приглашен, и не жить. Все смешно, все по иронии судьбы, даже в трагедиях софокла полный юмора.
— А ваша жизнь?
— Моя жизнь слишком смешно, как шутка. Но я здесь все и до конца, что ни одна гадость сюда не пришел. Я хочу «Фауста» сделать, но кручусь теперь, я думаю — как? Слушай, это же смешно притча, очень красиво… Я не могу себе представить, что Фауст сидит с таким серьезным видом, мучил вопрос, а серьезная Мефистофель приходит… Но только в моем возрасте, когда ты на жизнь смотришь по иронии судьбы, так что «Фауста».
Я прокормлю, и все, конечно, будет
— Вы человек природы. Тогда я спрошу: раз родились в крещенские морозы, вы морозоустойчивы? Вы любите снег?
— Если отсчитать девять месяцев назад, в противоположном направлении, я увидел был в мае, то есть. в весна. Вероятно, где-то в поле. Может, поэтому я люблю лето. А снег — украшение моей жизни. Зима… так с неба что-то падает, не падает дождь, по-прежнему. А лето я люблю. Опять же я говорю про сад и огород. В 90-е годы трудно было время, я гречку посеял, думал все достаточно по мешку — брат, один, другой, дочь.
— Вы точно мужик. Как в театре, были такие склонности?
— Я все знаю, как — строгать, пилить, плотничать. У меня сделаны столы, скамейки. Я думал, даже в 90-е годы работать и продавать их, чтобы выжить как-то нужно было. Но, оценивая свою работу как «и грубый». Тогда была эпоха чистоты, привлекательности, что европейские. И я не продал бы, а сейчас-продал бы. Теперь пришло время для этой грубости, несделанности, простота.
— С вами, Римас, не пропадешь. Может быть, вы еще и шьете?
— Нет, это моя мама шила. Да, со мной не пропадешь. Ни в коем случае. И прокормлю, и все в безопасности. И выращу, и огурцы буду, и яблоки буду. Я после Нового года пошел в подвал старого дома — мешки с яблоками лежат. Я испытал яблоки: когда собирать их лучше, чем держать, повесить или положить.
— Как все это совместить — крестьянское, театральное, философский?
— Это одно и то же. Если вы знакомы природу яблоко или огурец…
— Театр — это огурец?
— Конечно. То же самое — как огурец. Ты его поливаешь, как и репетиции, вы идете, присматриваешься, а он растет и растет.
— Признайтесь, что сейчас вы играете в интервью?
— Немного, но не до конца. Меня здесь сосед спросил: «в этом году будут сеять гречку?» — «Нет!» — «Как жаль, мои пчелы так любил свою гречку». Хотя литр меда принес. Нет, не принес! А что его пчелы так любил мою гречку.
— И до сих пор не дает мне покоя ваше утверждение, что вы неудачник. Что вы имеете в виду?
— Мне говорят, что мне повезло, но я в это не верю. Я должен я верить, что удачник. Но не дай бог, если в это верить. А я думаю, что это все случай, а в чехова в «Дяде Ване» — все так. Так и у меня бывает, что пришел в Вахтанговский, что так стало — тоже так. Но, это не жизнь, не вся правда. Не дай, чтобы этот успех — это труднее всего, это провокация. Следует уменьшить, уменьшить немного опустить паруса. В противном случае ты проскочишь марина.